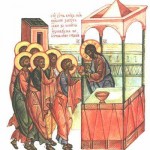 По наблюдению игумена Петра (Мещеринова), современная приходская практика зачастую учит людей воспринимать причастие Христу как нечто из ряда аскетического, но не как саму жизнь, к которой мы призваны.
По наблюдению игумена Петра (Мещеринова), современная приходская практика зачастую учит людей воспринимать причастие Христу как нечто из ряда аскетического, но не как саму жизнь, к которой мы призваны.
В вопросе подготовки ко Святому Причащению мне видится проблема соотношения евангельской
нравственности и внешней аскетики. Вот пример. Приходит человек на исповедь перед причастием и перечисляет батюшке грехи: не туда посмотрел, не то съел, с мамой ссорюсь, ругаюсь с близкими, телевизор много смотрю, и прочее. Батюшка устало кивает головой на каждый произносимый грех и повторяет автоматически: «Господь простит». Перечисление закончено. Тут батюшка оживляется и начинает придирчиво расспрашивать исповедника, как он готовился: вычитал ли три канона и последование ко причащению, постился ли три дня, с рыбой или без (и плохо, что с рыбой, надо было без рыбы, а лучше и без масла), ходил ли эти дни в храм, был ли накануне на богослужении и почему ушёл после помазания (нехорошо, это леность, нужно понуждать себя), не ел ли чего с утра и так далее и тому подобное.
Но не спрашивает батюшка с тою же придирчивостью, а что стоит за словами исповедника «ссорюсь с мамой, ругаюсь с близкими»: случайна ли ссора, постоянна ли ругань, чем вызваны конфликты, предпринимались ли усилия быть мирным со всеми и какие именно усилия. Отходит человек от исповеди − чему он научился? Что вычитать каноны для духовной жизни гораздо важнее, чем жить нравственно.
Думаю, описанная ситуация многим знакома. Это не значит, конечно, что мы, пастыри, не заботимся о нравственности приходящих к нам людей, − речь о том, на что обращается главное внимание в вопросе подготовки к причастию. Моё глубокое убеждение, основанное на опыте: многие кризисы духовной жизни постоянных прихожан, усталость, разочарование, порой и отход от Церкви происходят от того, что человека приучили более важным считать соблюдение правил, долженствований и запретов, нежели нравственную евангельскую жизнь.
Ещё одна проблема того же рода: если исповедь сейчас срослась с благословением на причастие, то какова степень распоряжения священника причащением или непричащением исповедующегося у него мирянина? На мой взгляд, священник обязан не допускать до причастия только в случае нравственного препятствия, тяжёлых грехов, но не дисциплинарных недостаточностей.
В результате превалирования внешней дисциплины над евангельской нравственностью складывается неверное восприятие людьми Евхаристии и всей церковной жизни. Евхаристия есть, во-первых, величайший дар Бога людям. Его нельзя купить, нельзя «заслужить», его нельзя быть − в «ценовом» смысле − достойным на сто процентов. Во-вторых, Господь говорит о причащении Своего Тела и Крови как о вкушении и питии, то есть вещах предельно естественных. Еда и питьё человеку (если он здоров, разумеется) никогда не надоедают; они абсолютно естественны для человека и по природе необходимы ему. В этот же ряд Господь поставил и Евхаристию. Для того, чтобы быть готовым к обеду, нужно, прежде всего, проголодаться; ну и соблюсти какой-то, опять же совершенно естественный, ряд простых действий: вымыть руки, надеть рубашку, садясь за стол, вести себя за столом сообразно с правилами этикета и проч. Трудно себе представить, чтобы родные покупали у главы семьи билет на обед…
В результате же нашей подготовки к причащению, которая по сути именно «покупка билета», у большинства православных складывается совсем другое, не евангельское представление о Евхаристии. Причастие Христу становится тем, что нужно «заслужить» внешними подвигами, особой подготовкой; и воспринимается оно как выходящая из ряда повседневного существования некая награда, поощрение, результат каких-то наших почти «спортивных» достижений, как нечто из ряда аскетического и дисциплинарного, но не как сама жизнь, к которой мы призваны.
(33)